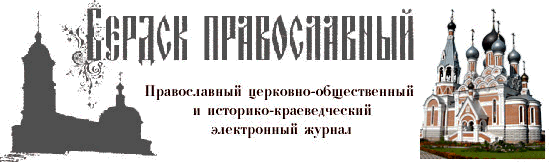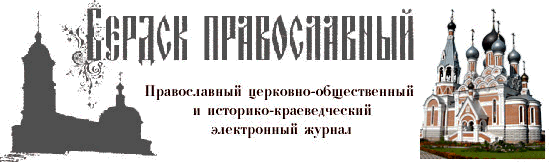|
НЕПРИДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ БАТЮШКИ
ВАЛЕНТИНА
 «Испытавши
все плохое, надо людям помогать. Я знаю вкус горя, учился «Испытавши
все плохое, надо людям помогать. Я знаю вкус горя, учился
сочувствовать ближним,
понимать чужую скорбь. В скорбях — нынешних и
грядущих — надо особенно учиться любить ближних», — говорит 87-летний
протоиерей Валентин Бирюков из г. Бердска Новосибирской области. Он сам
перенес такие скорби, которые не каждому выпадут. И теперь хочет подставить
пастырское плечо спотыкающимся, неуверенным, унывающим, немощным в вере,
угадать душевную скорбь и облегчить ее.
Почти 30 лет служит священником протоиерей Валентин Бирюков.
Родом из Алтайского села Колыванское, он ребенком пережил раскулачивание,
ког да сотни семей были брошены на заведомую погибель
в глухую тайгу без всяких средств к жизни. Фронтовик, защитник Ленинграда,
награжденный боевыми орденами и медалями, он знает цену труда с малых лет.
Труда земного и труда духовного. Он взрастил достойный плод — вырастил троих
сыновей священников.
Отец Валентин Бирюков и в преклонных годах сохранил детскую
веру: остался открыт чистым сердцем и Богу, и людям. «Милые детки, милые
люди Божий, будьте солдатами, защищайте любовь небесную, правду вечную...»
Простоту веры ощущаешь сердцем, читая бесхитростные, на первый
взгляд, рассказы протоиерея Валентина — рассказы, как он сам их называет,
«для спасения души». Не будучи богословом, он находит нужные слова и для
протестанта, и для заплутавшего грешника, и для высокоумного атеиста. И
слова эти часто трогают душу, потому что сказаны из глубины удивительно
верящего и любящего сердца.
Во всех рассказанных им историях ощущаются стремление души к
Царствию Небесному, неустанное искание его. Поэтому в рассказах и о самых
тяжких скорбях не угасают надежда и упование на Бога.
Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова
монастыря г. Москвы
Господи, прости их
В Бога я верил с детства и, сколько помню себя, удивлялся всегда людям,
смотрел на них с восхищением: какие они красивые, умные, уважительные,
добрые. Действительно, в селе Колыванское Павловского района Алтайского
края, где я родился в 1922 году, меня окружали замечательные люди. Отец мой,
Яков Федорович, — учитель начальных классов, на все руки мастер, таких
теперь и не сыщешь: и валенки катал, и кожи выделывал, и печки клал без
единого кирпича — из глины... Любил я родной храм Казанской иконы Божией
Матери, где меня крестили на Казанскую. Внимательная детская любовь была у
меня ко всем односельчанам.
Но настало время, когда в 1930 году, на первой неделе Великого поста,
отца посадили в тюрьму. За то, что отказался стать председателем сельсовета,
не хотел заниматься организацией коммун, калечить судьбы людей — он-то, как
верующий человек, хорошо понимал, что это такое: коллективизация. Власти
предупредили его:
— Тогда сошлем.
— Дело ваше,—ответил он.
Так отец оказался в тюрьме, которую устроили в монастыре в городе
Барнауле.
Сразу после этого и всех нас в ссылку сослали. Восьмой год мне тогда шел,
и я видел, как отбирали скот, выгоняли из дома, как рыдали женщины и дети.
Тогда сразу что-то перевернулось в моей душе, я подумал: какие люди злые, не
мог понять — с ума все сошли, что ли?
И нас, как и всех ссыльных, загнали за ограду сельсовета, своих же
сельских поставили часовыми, дали им ружья. Крестная моя, Анна Андреевна,
узнала, что нас согнали к сельсовету, принесла нам пирожков. Подбегает к
нам, а молодой парень, поставленный караулить ссыльных, ружьем на нее
замахнулся:
— Не подходи, стрелять буду!
— Я крестнику пирожков дать хочу!
— Не подходи, это враги советской власти!
— Что ты, какие враги, это же мой крестник!
Тогда парень нацелился на нее ружьем, грубо оттолкнул
стволом винтовки. Она заплакала:
— За что ты меня, Иван?!
Свой, деревенский, русский человек, а дали ему ружье—к он меня,
мальчишку, уже считает врагом советской власти. Вот такие мы грешные люди. Я
этого никогда не забуду. Тогда конечно, я не мог этого понимать, откуда все
взялось, почему соседский парнишка — 14-летний Гурька — изо всех сил дал мне
подзатыльник, когда я побежал к крестной: и по шее меня бил, и по боку, и
пинком, и кулаком, и матерком!.. Я заревел. Подумал: почему люди, которых я
хорошо знаю, вдруг зверями сделались?
Потом этого Гурьку на фронте убили. А много лет спустя, в 1976 году,
когда я уже стал священником, увидел я его во сне. Будто идет прямо в землю
огромная труба, а он держится за кромки этой трубы — вот-вот сорвется.
Увидел меня — закричал:
— Ты меня знаешь, я — Гурька Пукин, спаси меня!
Я взял его за руку, вытащил, поставил на землю. Заплакал он от радости,
начал мне кланяться:
— Дай Бог тебе вечного здоровья!
Проснулся я и подумал: «Господи, прости его». Это душа его молитвы
просила. Пошел на службу, помянул, частичку вынул. Господи, прости нас,
глупых! Мы же глупые. Это не жизнь, это травля жизни. Издевательство над
самим собою и над другими. Господи, прости. Он же пацан был, 14 лет ему. Я
помолился о нем, как мог. На следующую ночь снова увидел его во сне. Будто
иду я, читаю Евангелие, а сзади идет он, Гурька. Опять кланяется и говорит:
— Спасибо тебе, дай Бог тебе вечного здоровья!
"Счастливые вы, что у вас все отобрали..."
Многое из этого, что случилось при раскулачивании, предсказала
односельчанам прозорливая девица — монахиня Надежда. Удивительна история ее
жизни. Она с семилетнего возраста не стала вкушать мясное и молочное,
питалась только постной пищей, готовя себя к монашеству. Отец ее всю жизнь
был старостой в нашем Казанском храме, мамочка стряпала, убиралась в церкви.
Когда Надежда выросла, за нее сватались два купеческих сына — ни за кого не
пошла.
— До свидания! — вот и весь разговор.
Был в ее жизни случай, когда она обмирала, — трое суток ее душа была на
Небе. Рассказывала она потом, как Царица Небесная ее трое суток по
мытарствам водила. И когда очнулась Надежда, то весь девичий наряд раздала
по бедным и стала ходить в льняной одежде. Все до ниточки было у нее льняное
— даже ленточки в Евангелии.
Она каждый день вычитывала полную Псалтирь и одного Евангелиста. А потом
шла на работу. Дров себе навозит на тележке, сеяла сама. А когда землю
отобрали, она колосков наберет, на мельницу зимой свозит и живет этим. При
этом она никогда ничем не болела.
Эта монахиня Надежда многим предсказала будущее — вплоть до сегодняшнего
времени. Я сам свидетель тому, что задолго до «перестройки» она говорила,
что у людей будут «большие» деньги, мою жизнь наперед видела.
Ей и было открыто, кто не пойдет в коммуну, кто претерпит за это. В 28-м
году, незадолго до раскулачивания, подойдет вечером к двери какого-нибудь
дома и тихонько, чтобы не слышали дети, говорит:
— Молодцы вы, что в коммуну не пойдете. Но вас из дома выгонят, отберут
землю, скот, все ценности и сошлют в ссылку.
А что такое коммуна — тогда никто и не знал, узнали после. И кого она
известила — тех и сослали в ссылку, а к кому не подошла — те пошли в
коммуну. Вот какое знание ей было дано от Бога. А когда стали ссылать
земляков, она утешала их:
— Вы не плачьте — вы счастливые.
Представляете, какое счастье? Землю отобрали, скот отобрали, из дома
выгнали, одежду самую лучшую отобрали. И это называется — счастливые?
— А вот когда Страшный Суд будет — это вам зачтется. Вы будете оправданы
— не за то, что вы богатые, а за то, что вас сослали за Христа, что вы за
веру страдали, терпеливо терпели.
Даже адреса назвала, кого куда сошлют, сказала, что всего там много будет
— полно дичи, рыбы, ягод, грибов. Лес и поля свободные.
Действительно, монахиня Надежда оказалась права. Так и случилось. В
тайге, куда нас сослали, девать некуда было рыбы, ягод, грибов, кедровых
орехов.
Сначала, правда, очень тяжко пришлось. Люди в дороге сильно пострадали —
больше чем полмесяца добирались до глухих лесов Томской области, куда нас
определили жить. Вышли все продукты. Да к тому ж все у нас отобрали — не
было ни мыла, ни соли, ни гвоздей, ни топора, ни лопаты, ни пилы. Ничего не
было. Даже спичек не было — все выжгли в дороге.
Привезли нас в глухую тайгу, милиционеры показывают на нее:
— Вот ваша деревня!
Какой тут вой поднялся! Все женщины и дети закричали в голос:
— А-а-а! За что?!
— Замолчать! Враги советской власти!
И все такое. Страшно говорить. Умирать нас привезли. Одна надежда — на
Бога. Да на свои руки. И дал Господь силы...
Спать легли прямо на земле. Комаров — туча. Костры горят. Утром рано лоси
пришли на костры. Стоят, нюхают: что это за новоселы? Кедровые шишки лежат
на земле, медведи подходят, выбирают орехи из шишек — но нас ни один медведь
не тронул.
Потом огляделись: леса-то сколько, да бесплатно все! Вода чистейшая.
Приободрились немного.
Ну, а затем пошла работа. Начали строить. Сделали общий барак — на пять
семей. Дядя Миша Панин стал нашим опекуном, ведь я еще мал был — вот он и
помогал. Там, в тайге, все работали — от мала до велика. Мужчины лес
корчевали, а мы, дети (даже двухлетние), палочки бросали в костры и сучки
жгли. Спичек не было — так мы днем и ночью держали костры. Зимой и летом. На
сотни километров кругом — одна тайга. Среди тайги и появилась наша деревня
Макарьевка. С нуля ее построили. Мыслимо ли это, ни копейки у людей не было,
никакой пенсии никто не получал, не было ни соли, ни мыла, ни инструментов —
ничего. А строили. Продуктов не было — варили травы, все, в том числе и
дети, питались травой. И здоровы были, не болели. Все навыки, приобретенные
во время тех скорбей, очень мне пригодились позднее, когда я на фронте в
блокаду попал. А я уже к тому времени прошел «курс выживания»...
Это была явная милость Божия, что мы выжили, несмотря ни на что. Хотя
должны были погибнуть, если рассчитывать только на человеческие силы. В
других местах судьбы раскулаченных складывались намного трагичнее.
В 1983 году стала известна судьба поселенцев, вывезенных на безлюдный
остров на реке Оби у села Колпашево в Томской области (я жил в этом селе
некоторое время после войны).
Местные жители называли этот остров Тюремный. В 30-е годы туда привозили
баржи со ссыльными — верующими людьми. Сначала собирали священников:
— Выходите, берите лопаты, копайте себе времянку. Делили всех на две
группы и одну заставляли пилить лес, другую копать. Оказалось, люди не
времянки— могилы себе копали! Их надо было расселять, а их там
расстреливали. Рядком посадят всех — и стреляют в затылок. Потом живым велят
закапывать трупы, затем и этих расстреливали и закапывали.
В 1983 году в паводок этот остров сильно размыло, обнажились ямы, в
которых закопаны были страдальцы. Трупы их всплывали — чистенькие,
беленькие, только одежды истлели — и застревали в бревнах и прибрежных
кустарниках. Люди говорили, что место то благодатное — тела мучеников все
целы остались.
"Теперь я дома..."
А тем временем наш отец, сбежавший из тюрьмы, шел по тайге к месту нашей
ссылки. И не знал, увидит свою семью в живых или нет. Сам он чудом избежал
смерти. Его должны были расстрелять — он знал это и готовился. Тогда много
составляли ложных протоколов, показывающих, что у человека якобы было много
батраков, — чтобы расстрелять его. Двоим его сокамерникам уже руки связали,
повели на расстрел. Один из них, Иван Моисеев, успел сказать:
— Передайте нашим — все кончено!
Пришла очередь и моего папки. Пришел прораб и говорит:
— Этих четверых сегодня на работу не пускать — их в расход.
Среди них был и отец. А прораб этот оказался его хорошим знакомым.
Показал ему знаком — молчи, значит. Потом тайно вызвал к себе отца и помог
бежать из тюрьмы. Другой отцовский друг, дядя Макар, бегал в соседнюю
деревню, чтобы узнать адрес, где мы находимся. И пошел отец пешком с
Алтайского края в Томскую область. Полтора месяца шел, пешком одолел 800
километров. Без хлеба шел — боялся в деревни заходить, людей боялся. Питался
сырыми грибами и ягодами. Спал все время под открытым небом — благо лето
было.
Нашел он нас в августе 1930 года. Сапоги изношенные, худой-прехудой,
обросший, горбатый, грязный — совершенно неузнаваемый человек, старик
стариком! Мы, дети, в это время в костер таскали все, что только могли
поднять. Тоже грязные — мыла-то нет. «Старик» этот закричал громко:
— Где тут барнаульские? Ему показывают:
— Вот эта улица Томская, а вон та — Барнаульская.
Он пошел по Барнаульской «улице». Видит — мамка моя сидит, вшей на
детской одежонке бьет. Узнал ее — перекрестился, заплакал и упал на землю!
Затрясся от волнения и закричал:
— Вот теперь я дома! Вот теперь я дома!
Она от него отскочила — не узнала его совершенно. Он поднял голову, а в
глазах — слезы:
— Катя! Ты меня не узнала?! А ведь это я! Только по голосу она признала
мужа, нас зовет:

Родители Яков Федорович и
Екатерина Романовна
— Дети, идите скорей! Отец пришел!!!
Я быстро подбежал. Папка меня за руку поймал, а я вырываюсь, плачу.
Испугался: что за старик оборванный меня сыночком называет. А он держит
меня:
— Сынок! Да я же твой папка! — да как заплачет снова - обидно ему, что я
не узнал его.
Потом другие детки подошли: 5-летний братишка Василий, 3-летняя сестричка
Клавдия. Отец снимает с себя самодельный рюкзачок — холщовый мешок,
вытаскивает грязненькое полотенце, в него была завернута зимняя шапка, а в
ней — заветный мешочек. Развязал его отец и дает нам по сухарику. А сухарики
такие круглые, маленькие, как куриный желток, — для нас хранил, хотя сам
полтора месяца голодал. Дает нам по сухарику и плачет:
— Больше нечего дать вам, детки!
А у нас самих только вареная трава — нечего нам больше покушать. А отец
так ослаб, что не может на ногах стоять. Myжики,
которые барак строили, услыхали, подскочили:
— Яков Федорович! Это ты?! -Я...
Пообнимали его, поплакали. Но покормить нечем — у всех только трава.
Красный кипрей. Мамка поставила отцу миску травы и его сухари ему же отдает:
— Ты сам покушай, мы-то привыкли травой питаться...
Отец наелся травы. Дядя Миша Панин дал ему поллитровую кружку киселя. Он
пил-пил, потом повалился на землю. Посмотрели — живой. Накрыли каким-то
тряпьем. Всю ночь спал отец — не шелохнулся.
На другой день он проснулся — солнце высоко стояло. Опять заплакал. Начал
молиться
— Слава Богу! Вот теперь я дома! Снова накормили его травой — тем, что
было,
— Давайте топор! — поплевал на руки и по шел работать.
Он же мастер. Все сделать мог — все дома в нашей новой деревне строил, с
фундамента до крыши. Быстро построили барак. Только глухо« ночью бросали
работы — керосину-то не было. А
отец и ночами работал — за
неделю дом себе срубил, не спал нисколько. Представьте только: за неделю дом
срубить! Вот как они работали!..
Наказание Божие
Стала расти наша Макарьевка. Отец стал прорабом по строительству. Его все
I уважали, даже комендант — он
ведь такой трудяга. Он сам был и архитектором, и плотником. Он здесь, в
Макарьевке, все построил: и дома, и магазин, и школу — десятилетнюю, с
жильем для учителей. За одно лето построили эту школу на
месте глухой тайги.
Когда я заканчивал третий класс, мы с ребятами разговорились о Пасхе, о
Боге. Учительница услышала — и ну «прорабатывать» нас на следующем уроке:
— Ребята, я слышала, вы разговор вели о Боге. Так вот — никакого Бога
нет, никакой Пасхи нет! — и для крепчайшего удостоверения своих слов кулаком
по столу стукнула изо всех сил — как могла. Все мы пригнули головы.
Прозвенел звонок на следующий урок — идет наша учительница. Но от двери
до учительского стола она не дошла — ее начало сводить судоро гой.
Я никогда не видел, чтобы таким образом могло корежить человека: извивалась
так, что суставы трещали, кричала что есть сил. Трое учителей унесли ее на
руках, чтобы увезти в больницу.
Дома я рассказал мамочке о том, что случилось. Помолчала она, потом
сказала тихо:
— Видишь, Господь наказал ее на ваших глазах за богохульство.
Травяной хлеб
Меня тоже направили в военную школу в Омск, когда началась Великая
Отечественная война. Потом — под Ленинград, определили в артиллерию, сначала
наводчиком, затем командиром артиллерийского расчета. Условия на фронте,
известно, были тяжелые: ни света, ни воды, ни топлива, ни продуктов питания,
ни соли, ни мыла. Правда, много было вшей, и гноя, и грязи, и голода. Зато
на войне самая горячая молитва — она прямо к небу летит: «Господи, спаси!»
Слава Богу — жив остался, только три раза ранило тяжело. Когда я лежал на
операционном столе в ленинградском госпитале, оборудованном в школе, только
на Бога надеялся — так худо мне было. Крестцовое стяжение перебито, главная
артерия перебита, сухожилие на правой ноге перебито — нога, как тряпка, вся
синяя, страшная. Я лежу на столе голый, как цыпленок, на мне — один крестик,
молчу, только крещусь, а хирург — старый профессор Николай Николаевич
Борисов, весь седой, наклонился ко мне и шепчет на ухо:
— Сынок, молись, проси Господа о помощи — я сейчас буду тебе осколочек
вытаскивать.
Вытащил два осколка, а третий не смог вытащить (так он у меня в
позвоночнике до сих пор и сидит — чугунина в сантиметр величиной). Наутро
после операции подошел он ко мне и спрашивает:
— Ну как ты, сынок?
Несколько раз подходил — раны осмотрит, пульс проверит, хотя у него
столько забот было, что и представить трудно. Случалось, на восьми
операционных столах раненые ждали. Вот так он полюбил меня. Потом солдатики
спрашивали:
— Он тебе что — родня?
— А как же, конечно, родня, — отвечаю.
Поразительно — но за месяц с небольшим зажили мои раны, и я снова
возвратился в свою батарею. Может, потому, что молодые тогда были...
Опыт терпения скорбей в ссылке, выживания в самых невыносимых условиях
пригодился мне в блокадные годы под Ленинградом и в Сестрорецке, на
Ладожском побережье. Приходилось траншеи копать — для пушек, для снарядов,
блиндажи в пять накатов — из бревен, камней... Только устроим блиндаж,
траншеи приготовим — а уж на новое место бежать надо. А где сил для работы
взять? Ведь блокада! Есть нечего.
Нынче и не представляет никто, что такое блокада. Это все условия для
смерти, только для смерти, а для жизни ничего нет — ни продуктов питания, ни
одежды — ничего.
Так мы травой питались — хлеб делали из травы. По ночам косили траву,
сушили ее (как для скота). Нашли какую-то мельницу, привозили туда траву в
мешках, мололи — вот и получалась травяная мука. Из этой муки пекли хлеб.
Принесут булку — одну на семь-восемь солдат.
— Ну, кто будет разрезать? Иван? Давай, Иван, режь!
Ну и суп нам давали — из сушеной картошки и сушеной свеколки, это первое.
А на второе — не поймешь, что там: какая то заварка на травах. Ну, коровы
едят, овечки едят, лошади едят — они же здоровые, сильные. Вот и мы питались
травой, даже досыта. Такая у нас была столовая, травяная. Вы представьте:
одна травяная булочка на восьмерых — в сутки. Вкуснее чем шоколадка тот
хлебушек для нас был.
Обет друзей
Много страшного пришлось повидать в войну — видел, как во время бомбежки
дома летели по воздуху, как пуховые подушки. А мы молодые — нам всем жить
хотелось. И вот мы, шестеро друзей из артиллерийского расчета (все крещеные,
у всех крестики на груди), решили: давайте, ребятки, будем жить с Богом. Все
из разных областей: я из Сибири, Михаил Михеев — из Минска, Леонтий Львов—с
Украины, из города Львова, Михаил Королев и Константин Востриков — из
Петрограда, Кузьма Першин — из Мордовии. Все мы договорились, чтобы во всю
войну никакого хульного слова не произносить, никакой раздражительности не
проявлять, никакой обиды друг другу не причинять.
Где бы мы ни были — всегда молились. Бежим к пушке, крестимся:
— Господи, помоги! Господи, помилуй! — кричали как могли. А вокруг
снаряды летят, и самолеты прямо над нами летят — истребители немецкие.
Только слышим: вжжж! — не успели стрельнуть, он и пролетел. Слава Богу —
Господь помиловал.
Я не боялся крестик носить, думаю: буду защищать Родину с крестом, и даже
если будут меня судить за то, что я богомолец, — пусть кто мне укор сделает,
что я обидел кого или кому плохо сделал...
Никто из нас никогда не лукавил. Мы так любили каждого. Заболеет кто
маленько, простынет или еще что — и друзья отдают ему свою долю спирта, 50
граммов, которую давали на случай, если мороз ниже двадцати восьми градусов.
И тем, кто послабее, тоже спирт отдавали — чтобы они пропарились хорошенько.
Чаще всего отдавали Леньке Колоскову (которого позднее в наш расчет
прислали) — он слабенький был.
— Ленька, пей!
— Ох, спасибо, ребята! — оживает он.
И ведь никто из нас не стал пьяницей после войны...
Икон у нас не было, но у каждого, как я уже сказал, под рубашкой крестик.
И у каждого горячая молитва и слезы. И Господь нас спасал в самых страшных
ситуациях. Дважды мне было предсказано, как бы прозвучало в груди: сейчас
вот сюда прилетит снаряд, убери солдат, уходи. Точно, минуты не прошло, как
снаряд прилетел, и на том месте, где мы только что были, уже воронка...
Потом солдатики приходили ко мне и со слезами благодарили. А благодарить
надо не меня — а Господа славить за такие добрые дела. Ведь если бы не эти
«подсказки» — и я, и мои друзья давно бы уже были в земле. Мы тогда поняли,
что Господь за нас заступается. Сколько раз спасал Господь от верной гибели!
Мы утопали в воде. Горели от бомбы. Два раза машина нас придавливала. Едешь
— зима, темная ночь, надо переезжать с выключенными фарами через озеро. А
тут снаряд летит! Перевернулись мы. Пушка набок, машина набок, все мы под
машиной — не можем вылезти. Но ни один снаряд не разорвался.
 |
|
В годы войны |
А когда приехали в Восточную Пруссию, какая же тут страшная была бойня.
Сплошной огонь. Летело все — ящики, люди! Вокруг рвутся бомбы. Я упал и
вижу: самолет пикирует, бомба летит — прямо на меня. Я только успел
перекреститься:
— Папа, мама! Простите меня! Господи, прости меня! Знаю, что сейчас буду,
как фарш. Не просто труп, а фарш!.. А бомба разорвалась впереди пушки. Я —
живой. Мне только камнем по правой ноге как дало — думал: все, ноги больше
нет. Глянул — нет, нога целая. А рядом лежит огромный камень.
Победу мы встретили в Восточной Пруссии, в городе Гумбиннен невдалеке от
Кенигсберга.
Вот тут мы радовались! Этой радости не забудешь никогда! Такой радости в
моей жизни никогда больше не было.
Мы встали на колени, молились. Как мы молились, как Бога благодарили!
Обнялись, слезы текут ручьем. Глянули друг на дружку:
— Ленька! Мы живые!
— Мишка! Мы живые! Ой! И снова плачем от счастья.
А потом давай письма родным писать — солдатские треугольники, всего
несколько слов: мама, я здоров! И папке написал. Он
тогда работал в Новосибирске, в войсках НКВД,
прорабом по строительству — в войну его мобилизовали. Он жилые дома строил.
И он отдал Родине все, несмотря на то что считался «врагом советской
власти».
И сейчас, когда другой враг угрожает Родине — враг, пытающийся растоптать
ее душу, — разве мы не обязаны защищать Россию, не щадя жизни?..
Русская Мадонна
Об этом потрясающем случае помнят все в Жировицах, где в Успенском
монастыре в Белоруссии служит мой сын Петр.

Когда в Великую Отечественную войну немцы стояли в монастыре, в одном из
храмов держали оружие, взрывчатку, автоматы, пулеметы. Заведующий этим
складом был поражен, когда увидел, как появилась Женщина, одетая как
монахиня, и сказала по-немецки:
— Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...
Он хотел Ее схватить — ничего не получилось. Она в церковь зашла — и он
зашел за Ней. Поразился, что Ее нет нигде. Видел, слышал, что зашла в храм,
— а нет Ее. Не по себе ему стало, перепугался даже. Доложил своему
командиру, а тот говорит:
— Это партизаны, они такие ловкие! Если еще раз появятся — взять!
Дал ему двоих солдат. Они ждали-ждали, и увидели, как Она вышла снова,
опять те же слова говорит заведующему воинским складом:
— Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...
И уходит обратно в церковь. Немцы хотели Ее взять — но не смогли даже
сдвинуться с места, будто примагниченные. Когда Она скрылась за дверями
храма — они бросились за Ней, но снова не нашли. Завскладом опять доложил
своему командиру, тот еще двоих солдат дал и сказал:
— Если появится, то стрелять по ногам, только не убивать — мы Ее
допросим.
Ловкачи такие! И когда они в третий раз встретили Ее, то начали стрелять
по ногам. Пули бьют по ногам, по мантии, а Она как шла, так и идет, и крови
нигде не видно ни капли. Человек бы не выдержал таких автоматных очередей —
сразу бы свалился. Тогда они оробели. Доложили командиру, а тот говорит:
— Русская Мадонна...
Так они называли Царицу Небесную. Поняли, Кто велел покинуть оскверненный
храм в Ее монастыре. Пришлось немцам убирать из храма склад с оружием.
Матерь Божия защитила своим предстательством Успенский монастырь и от
бомбежки. Когда наши самолеты бросали бомбы на немецкие части,
расположившиеся в монастыре, бомбы падали, но ни одна не взорвалась на
территории. И потом, когда прогнали фашистов и в монастыре расположились
русские солдаты, немецкий летчик, дважды бомбивший эту территорию, видел,
что бомбы упали точно, взорвались же везде — кроме монастырской территории.
Когда война кончилась, этот летчик приезжал в монастырь, чтобы понять, что
это за территория такая, что за место, которое он дважды бомбил — и ни разу
бомба не взорвалась. А место это благодатное. Оно намоленное, вот Господь и
не допустил, чтоб был разрушен остров веры.
А если бы мы все верующие были — вся наша матушка Россия, Украина и
Белоруссия — то никакая бы бомба нас не взяла, никакая! И «бомбы» с духовной
заразой тоже бы вреда не причинили.
Играй, гармонь №22 2008 г. |